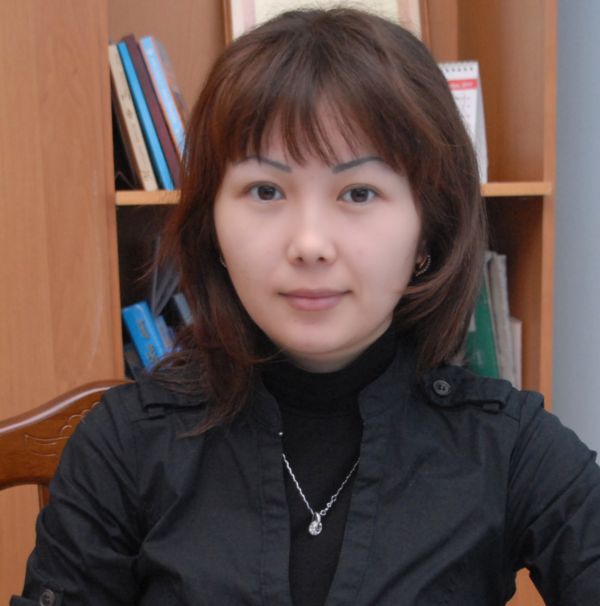Уставший от надежд и тягот лихолетья,
проеденный насквозь, в махорочном дыму,
с болезненной тоской, один, при слабом свете,
он снова в забытьи. Не должен никому
от сплина до любви, мерцающей в сединах
чуть видимой искрой сквозь тусклые глаза —
он будто видит сны, где юность в паутине
запуталась и ждет удара, как молнии гроза.
Так хочется привстать, но ноги неподвластны,
и тлея, тлея мысль последней каплей зла
упала на листок за прошлую опасность,
в которой, как нельзя, сноровка подвела.
Любовь и юность — прочь! Закончена страница!
Былого не вернуть, и пусть он вновь один!
Вот снова мысли ход, спускаясь вереницей,
ложится на тетрадь хозяина седин.
Ужели он мертвец? Иль годы быстротечны
лишь для живых сердец, а не для строк пера?
На склоне лет он верит в человечность,
но червяком обид в нем вырыта дыра.
Вновь искорка в глазах, и капелька чернила
стекает на строку, а мысли все идут.
Он хочет умереть, забрав с собой, что было,
и вновь воскреснуть там, где впредь не предадут.
La maxim bona ex omno*
Самый близкий и самый далекий,
растворившийся в медленном сне,
он, подобно луне, одинокий
и спокойный, подобно луне.
Так ледовая гладь отражает
утром вешнего солнца лучи —
только лед от тепла не растает,
если холод нашел к ней ключи.
Подойду к ней и вымолвлю снова,
чтоб забыть обо мне не смогла:
«Погоди, даже льдинам суровым
по весне тоже нужно тепла».
* «Самый близкий человек» (идо)
Ренат Хасипов